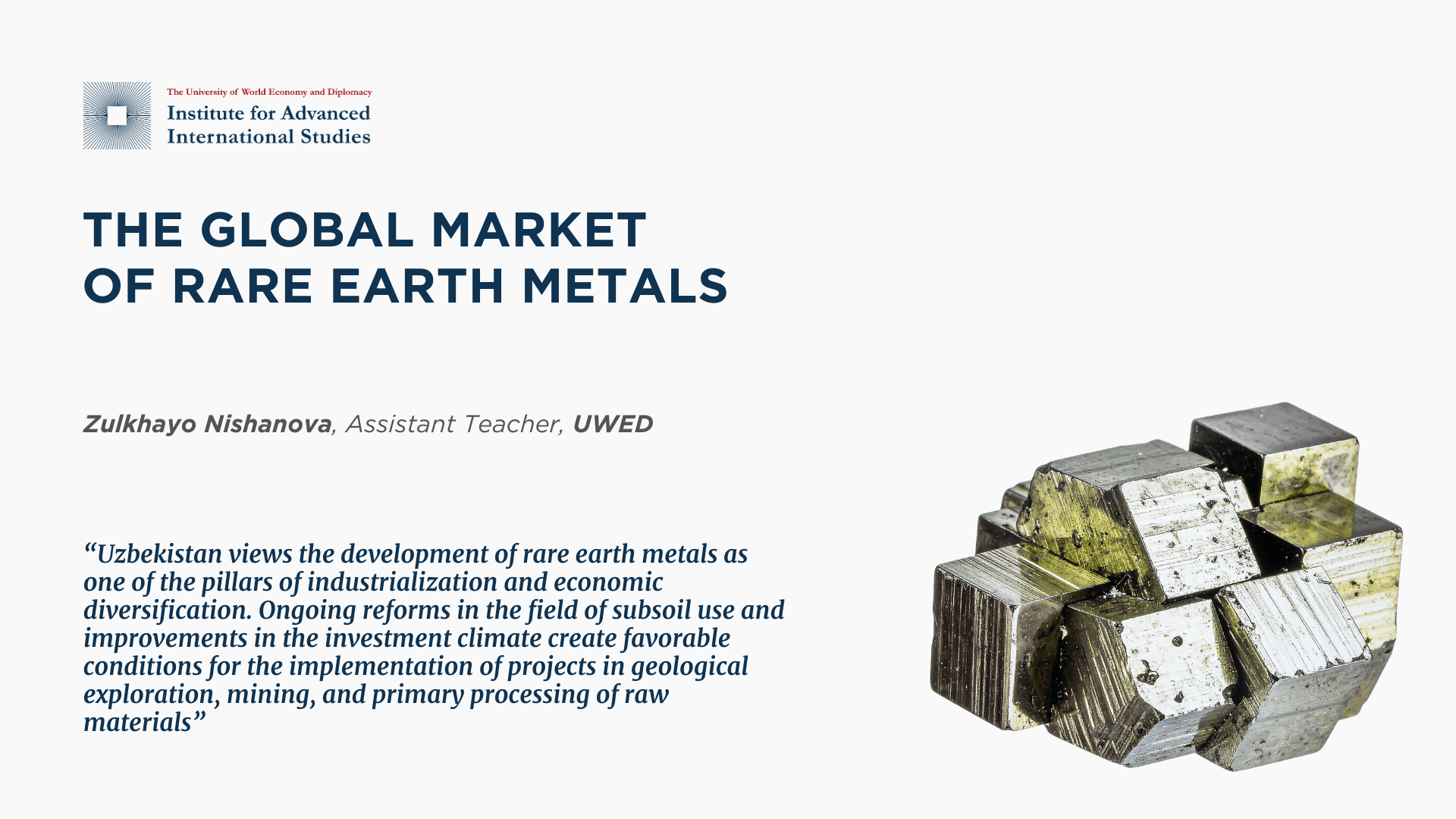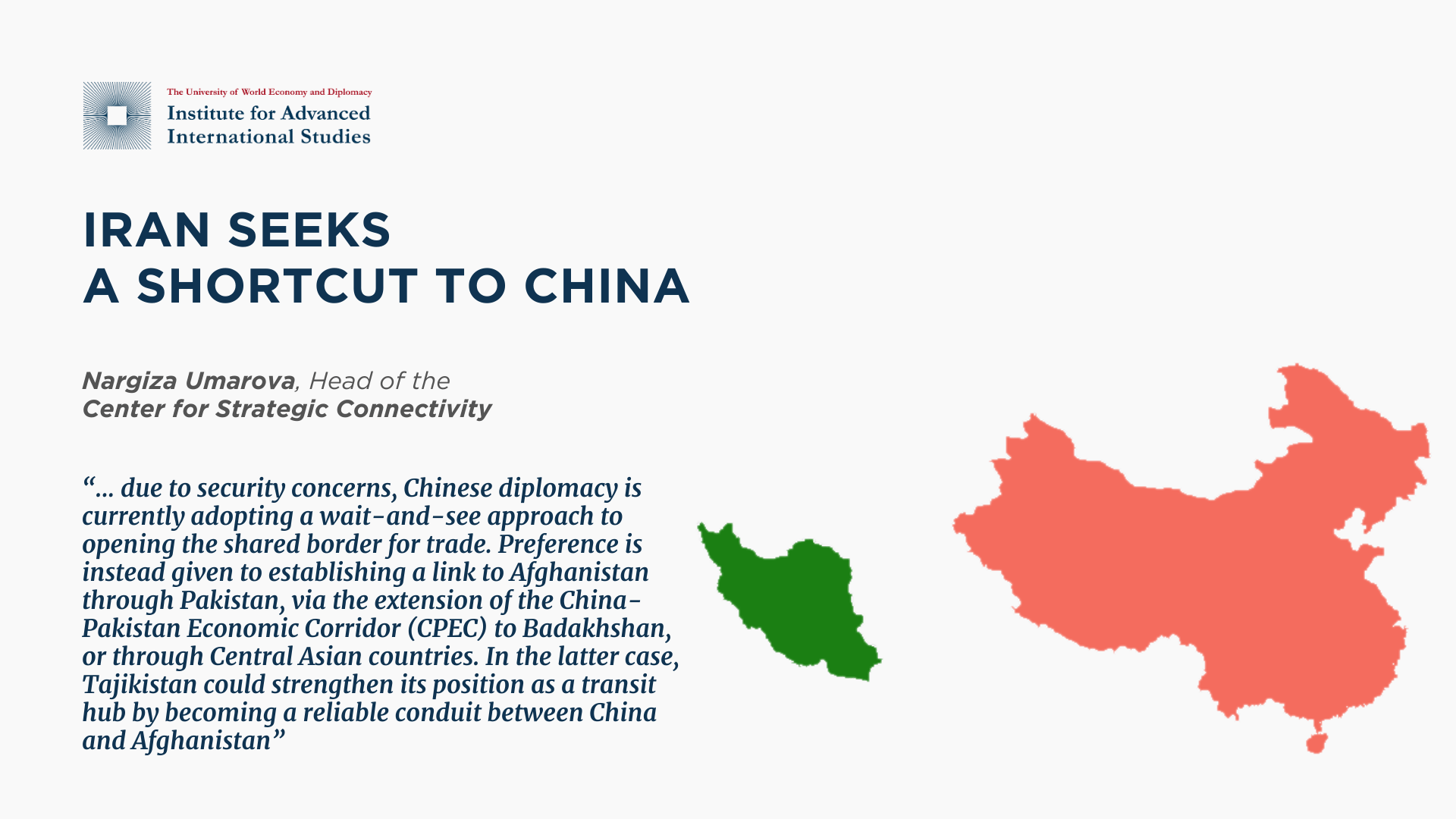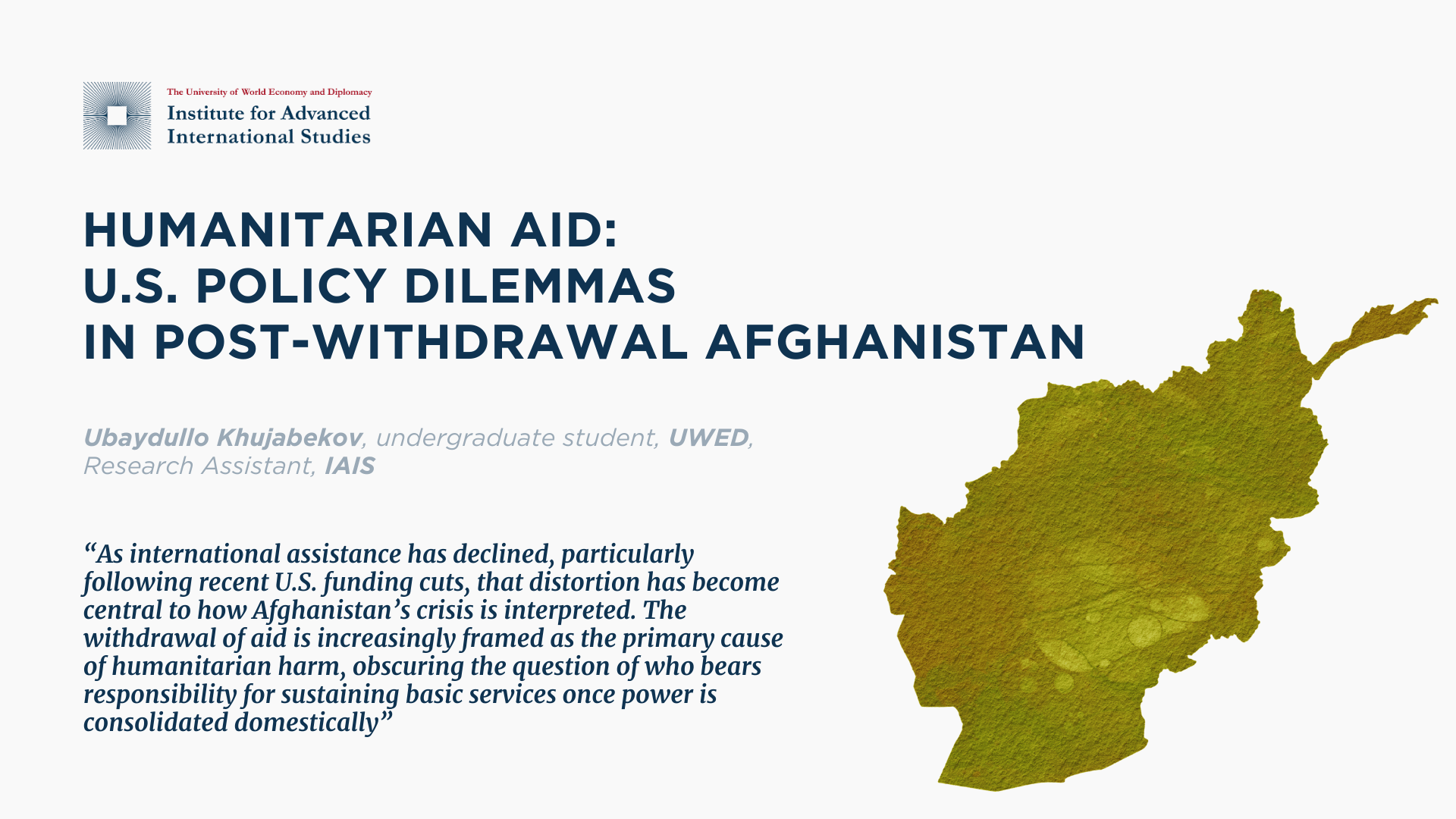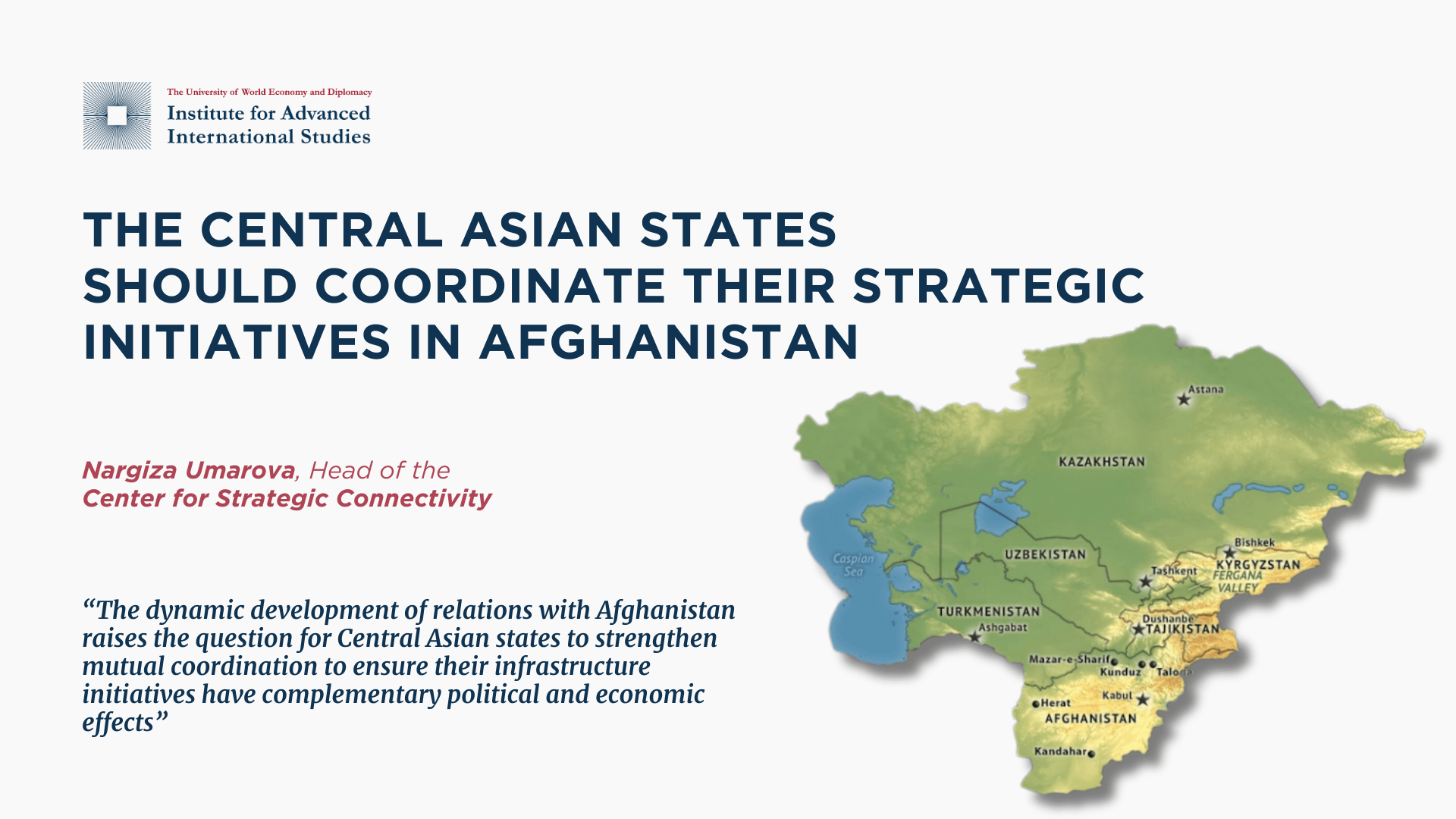После вывода вооружённых сил США из Афганистана Вашингтон столкнулся со сложной и долгосрочной дилеммой: как оказывать гуманитарную помощь населению, находящемуся в острой нужде, не придавая при этом политической легитимности и не обеспечивая материальных выгод движению «Талибан», которое в настоящее время управляет страной в качестве Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА). С августа 2021 года Соединённые Штаты пытаются решать эту задачу, опираясь на международные организации и неправительственные структуры для доставки помощи, одновременно сохраняя санкции в отношении руководства талибов и ограничивая прямое взаимодействие с де-факто властями. Этот балансирующий подход всё в большей степени определяет законодательную, дипломатическую и гуманитарную политику США в отношении Афганистана.
Центральным элементом данной стратегии является стремление предотвратить перенаправление средств американских налогоплательщиков – прямо или косвенно – в пользу «Талибана». Закон «No Tax Dollars forTerrorists Act» («Ни одного налогового доллара террористам») является последним и институционализированным выражением этой цели. Внесённый в Конгресс 23 января 2025 года, законопроект обязывает Государственный департамент США разработать и реализовать стратегию, направленную на сдерживание иностранных правительств, международных организаций и неправительственных акторов от предоставления финансовой или материальной поддержки «Талибану», в том числе через злоупотребление иностранной помощью, финансируемой США. Хотя законопроект всё ещё находится на ранних стадиях законодательного процесса, он сигнализирует об ужесточении контроля со стороны США и возможной перекалибровке американского взаимодействия с Афганистаном.
Данное законодательство вписывается в более широкий контекст усилий по аудиту и пересмотру американской внешней помощи после вывода войск. Аудит, проведённый в 2024 году Специальным генеральным инспектором по восстановлению Афганистана (SIGAR), выявил серьёзные слабости в системе контроля за приблизительно 2,9 млрд долларов США помощи, предоставленной после 2021 года. В отчёте отмечалось: «… сохраняется обеспокоенность тем, что Государственный департамент и USAID не обладают достаточной прозрачностью в отношении того, как расходуются средства после их передачи международным организациям, и что эти средства могут использоваться не по назначению». Хотя часть этих утверждений остаётся предметом споров, выводы отчёта усилили опасения в Конгрессе относительно уязвимости гуманитарных каналов к злоупотреблениям в условиях, когда «Талибан» осуществляет территориальный и административный контроль.
Сторонники закона «No Tax Dollars for Terrorists Act» рассматривают его не только как инструмент финансовой защиты, но и как моральное обязательство. Председатель Комитета Сената по международным отношениям Джим Риш подчёркивал человеческую цену двадцатилетней войны, отмечая, что более 2 000 американских военнослужащих погибли и свыше 20 000 получили ранения. В этом контексте он охарактеризовал любую передачу средств США ИЭА как «предательство жертв войны», утверждая, что предотвращение подобных исходов является вопросом ответственности как перед американскими налогоплательщиками, так и перед теми, кто служил в Афганистане. Законопроект был внесён сенатором Тимом Шихи и поддержан сенаторами Биллом Хагерти, Томми Табервиллом и Стивом Дэйнсом, которые выступают за более жёсткий подход к иностранной помощи, потенциально приносящей выгоду талибам.
Человеческие последствия этих политических сдвигов становятся всё более заметными. Недавний материал TheNew York Times утверждает, что приостановка гуманитарной помощи США оказала серьёзное и разрушительное воздействие на повседневную жизнь обычных афганцев. Опираясь на полевые исследования в пяти провинциях, в отчёте показано, как прекращение американского финансирования нарушило работу программ, от которых многие семьи зависели в вопросах продовольственной безопасности, здравоохранения и базового выживания. Согласно выводам, непропорционально сильно пострадали домохозяйства с низким доходом, внутренне перемещённые лица и сообщества, зависящие от экстренной помощи.
Сокращение финансирования также ограничило возможности гуманитарных организаций, работающих на местах. Некоторые программы были вынуждены сократить масштабы деятельности, другие – полностью прекратили работу, что усилило давление на местные сообщества, уже сталкивающиеся с безработицей, ростом цен и затяжным экономическим спадом. При отсутствии достаточных альтернативных источников финансирования сворачивание поддержки со стороны США усугубило существующие уязвимости и усилило бедность как в городских, так и в сельских районах.
Эти события выявляют более глубокую структурную проблему, лежащую в основе кризиса в Афганистане после вывода войск. На протяжении более чем двух десятилетий международная помощь функционировала не только как экстренная поддержка, но и как замена ключевых государственных функций, финансируя и обеспечивая такие услуги, как здравоохранение, питание и социальная защита. Когда помощь США и других международных доноров была сокращена, последствия оказались немедленными и тяжёлыми, продемонстрировав, в какой степени жизненно важные услуги оставались зависимыми от внешних акторов.
В результате дискуссии вокруг закона «No Tax Dollars for Terrorists Act» и решений США о финансировании выходят за рамки вопросов перенаправления помощи или соблюдения санкционного режима. Они отражают более широкое и до сих пор не разрешённое напряжение между гуманитарными императивами и политической ответственностью. Представляется, что ответственность за предоставление базовых услуг в Афганистане была распределена между международными акторами, тогда как власть и полномочия внутри страны формировались по отдельной траектории. Успехи приписывались партнёрству, а неудачи объяснялись проблемами безопасности, ограничениями доступа или нехваткой финансирования, а не недостатками управления. Со временем граница между гуманитарной поддержкой и функциональной заменой государства оказалась размыта.
По мере сокращения международной помощи, особенно после недавних сокращений финансирования со стороны США, эта деформация стала центральной в интерпретации афганского кризиса. Прекращение помощи всё чаще представляется как основная причина гуманитарного ущерба, что затмевает вопрос о том, кто несёт ответственность за поддержание базовых услуг после консолидации власти внутри страны. Такой подход рискует смешать предотвращение страданий с предположением о постоянном внешнем обязательстве, превращая гуманитарную поддержку из инструмента помощи в замену государственного управления.
Текущие дебаты о помощи, экономической самодостаточности и гуманитарном коллапсе невозможно понять без осмысления этой неразрешённой зависимости. Кризис в Афганистане разворачивается не в вакууме власти. Он происходит в условиях системы управления, которая осуществляет контроль над территорией, трудовыми ресурсами, доступом и социальной политикой и, следовательно, напрямую формирует гуманитарные результаты. Любая оценка последствий сокращения помощи должна учитывать не только решения доноров, но и управленческие выборы, принятые внутри Афганистана после смены власти.
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.