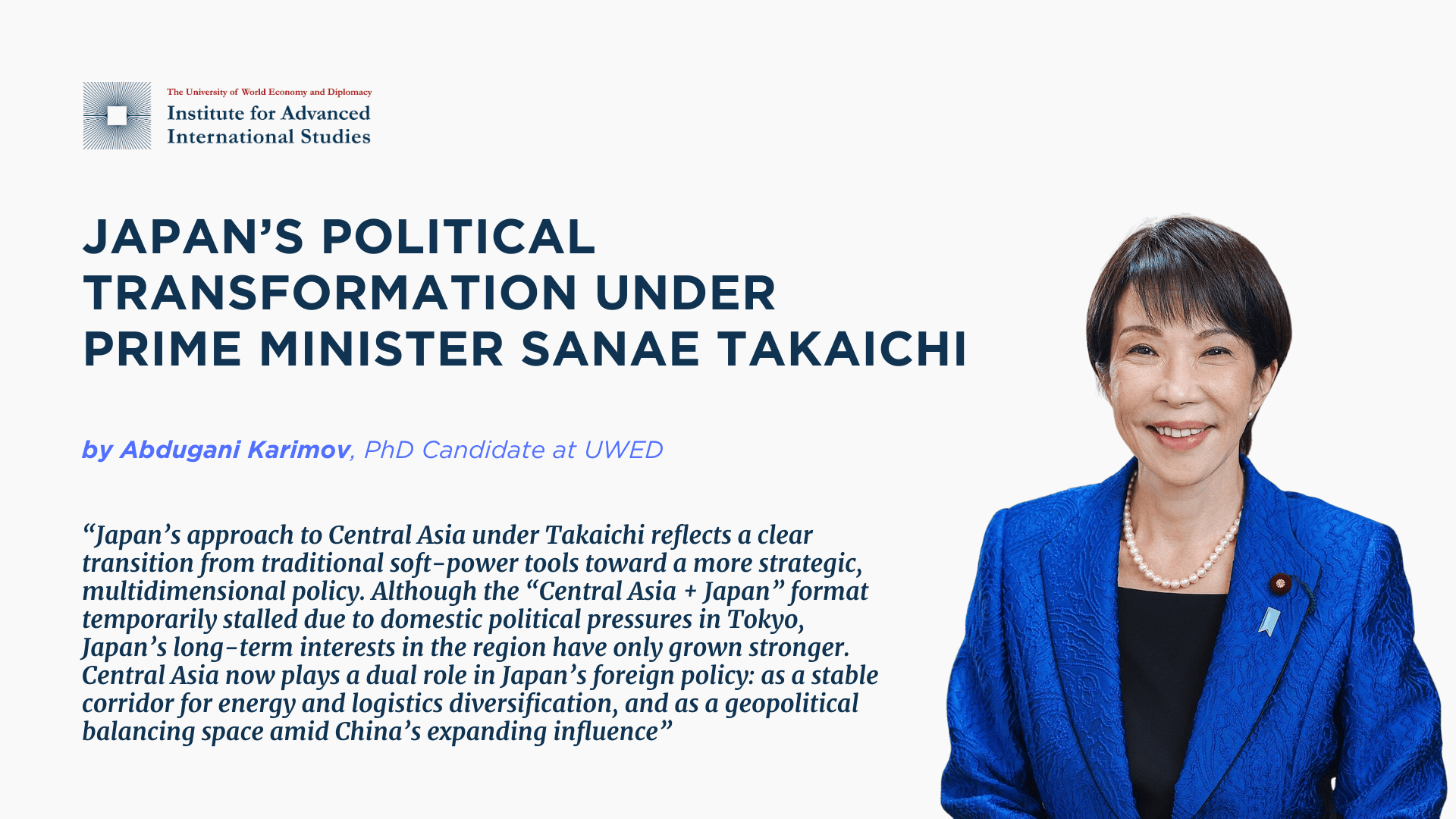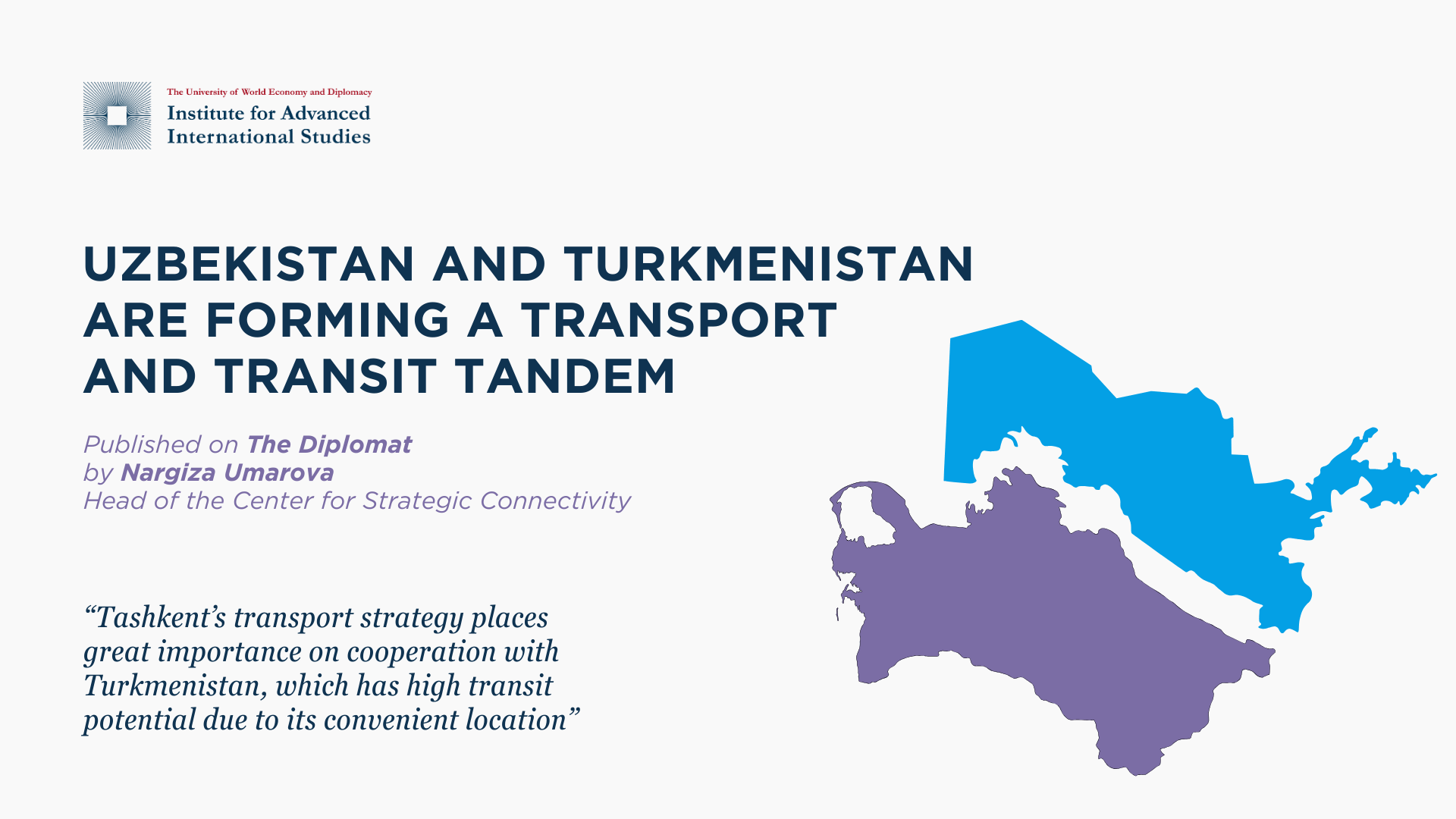В своем аналитическом обзоре «Узбекистан может выиграть от проекта строительства железной дороги из Герата в Мазар-и-Шариф», опубликованном на Jamestown Foundation, Наргиза Умарова анализирует недавнее соглашение между Афганистаном, Ираном и Турцией о совместном строительстве железнодорожной линии из Герата в Мазар-и-Шариф в рамках Железнодорожного коридора пяти наций (FNRC) и исследует его стратегические последствия для Узбекистана. Она показывает, что FNRC, соединяющий Китай с Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Ираном, а далее с Турцией и Европой, задуман как один из самых коротких наземных маршрутов между Восточной Азией и Европой. Таким образом, он не только укрепляет амбиции Тегерана и Кабула по углублению торговли с Китаем и диверсификации своих восточных торговых маршрутов, но и создает новую конфигурацию связей между Востоком и Западом, которая конкурирует с существующими транзитными маршрутами Центральной Азии, включая Транскаспийский «Средний коридор».
Умарова утверждает, что эта формирующаяся архитектура имеет глубокие последствия для роли Узбекистана как транзитного государства. С одной стороны, железная дорога Герат–Мазар-и-Шариф может открыть новые возможности для Ташкента, обеспечив более прямой доступ к дорожной сети и морским портам Ирана, потенциально минуя Туркменистан и сокращая расстояние до ключевых экспортных рынков. С другой стороны, если Узбекистан останется вне FNRC, грузовые потоки между Китаем и Европой могут все чаще перенаправляться через Таджикистан и Иран, подрывая нынешнее положение Узбекистана как крупного сухопутного транзитного узла. Автор иллюстрирует это постепенным развитием железной дороги Хаф-Герат, которая уже позволяет перевозить значительные объемы грузов между Ираном, Афганистаном и европейскими рынками и которая, в случае продления на север и восток, могла бы более тесно связать сети Центральной Азии и Китая.
В кратком обзоре эта динамика рассматривается в контексте собственной, порой непоследовательной, железнодорожной дипломатии Узбекистана в Афганистане. Умарова напоминает, что Ташкент изначально поддерживал проект железной дороги Мазар-и-Шариф–Шеберган–Маймана–Герат, подписанный в 2017 году и предназначенный для соединения с линией Хаф–Герат, но позже переключил свое внимание на альтернативный трансафганский «Кабульский коридор» в направлении Пакистана. Параллельно с этим Афганистан и Таджикистан договорились о строительстве линии Шер-Хан-Бандар–Джалолиддини-Балхи, которое застряло из-за финансовых ограничений. После возвращения Талибана к власти появились новые предложения, в том числе линия Мазар–Герат–Кандагар, предложенная России, и заявления о возможном участии Узбекистана, но без четкого подтверждения со стороны Ташкента. Умарова подчеркивает, что выбор ширины колеи (1520 мм по стандарту СНГ, если строительство будет осуществляться Россией или Узбекистаном, или 1435 мм по европейскому стандарту, если строительство будет осуществляться Ираном и Турцией) символизирует конкурирующие видения: интеграцию Афганистана либо в северо-южную сеть, ориентированную на СНГ, либо в первую очередь в восточно-западную ось ФНЖД.
В заключение Умарова утверждает, что одновременное развитие ФНЖД и железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая, как ожидается, сократит маршрут Китай–Европа примерно на 900 километров при соединении с Южным коридором через Иран и Турцию, создает как риск, так и возможности для Узбекистана. Если Ташкент не будет активно стремиться к участию в ФННК — потенциально через цепочку Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Таджикистан-Узбекистан-Афганистан-Иран — он может столкнуться с тем, что транзитные потоки будут обходить его территорию. Однако если он позиционирует себя как мост между новым коридором Восток–Запад и существующими центральноазиатскими и евразийскими маршрутами, Узбекистан может стать прямым бенефициаром железной дороги Герат–Мазар-и-Шариф и укрепить свой статус ключевого узла в развивающейся евразийской транспортной системе.
Читайте дальше Jamestown Foundation
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.