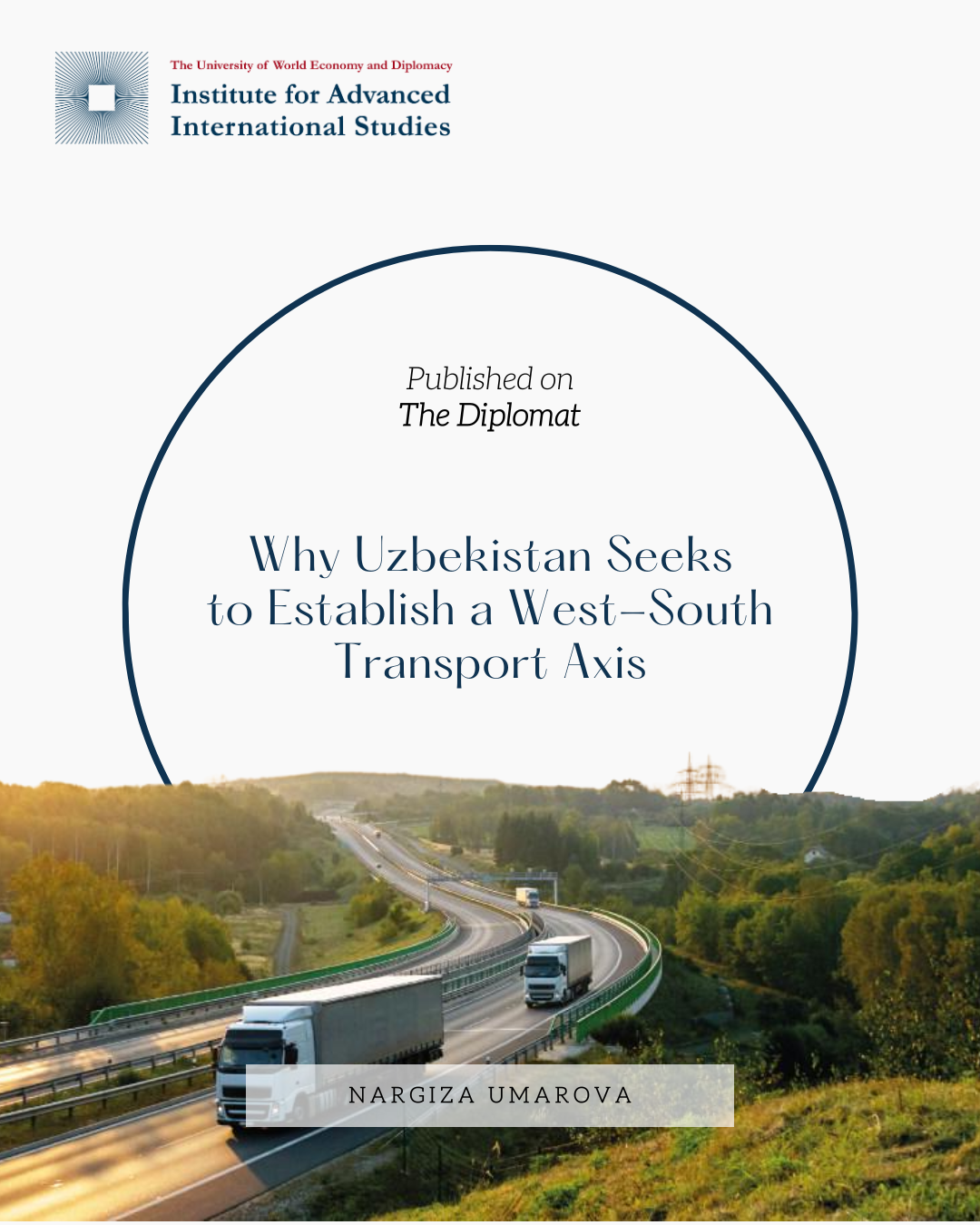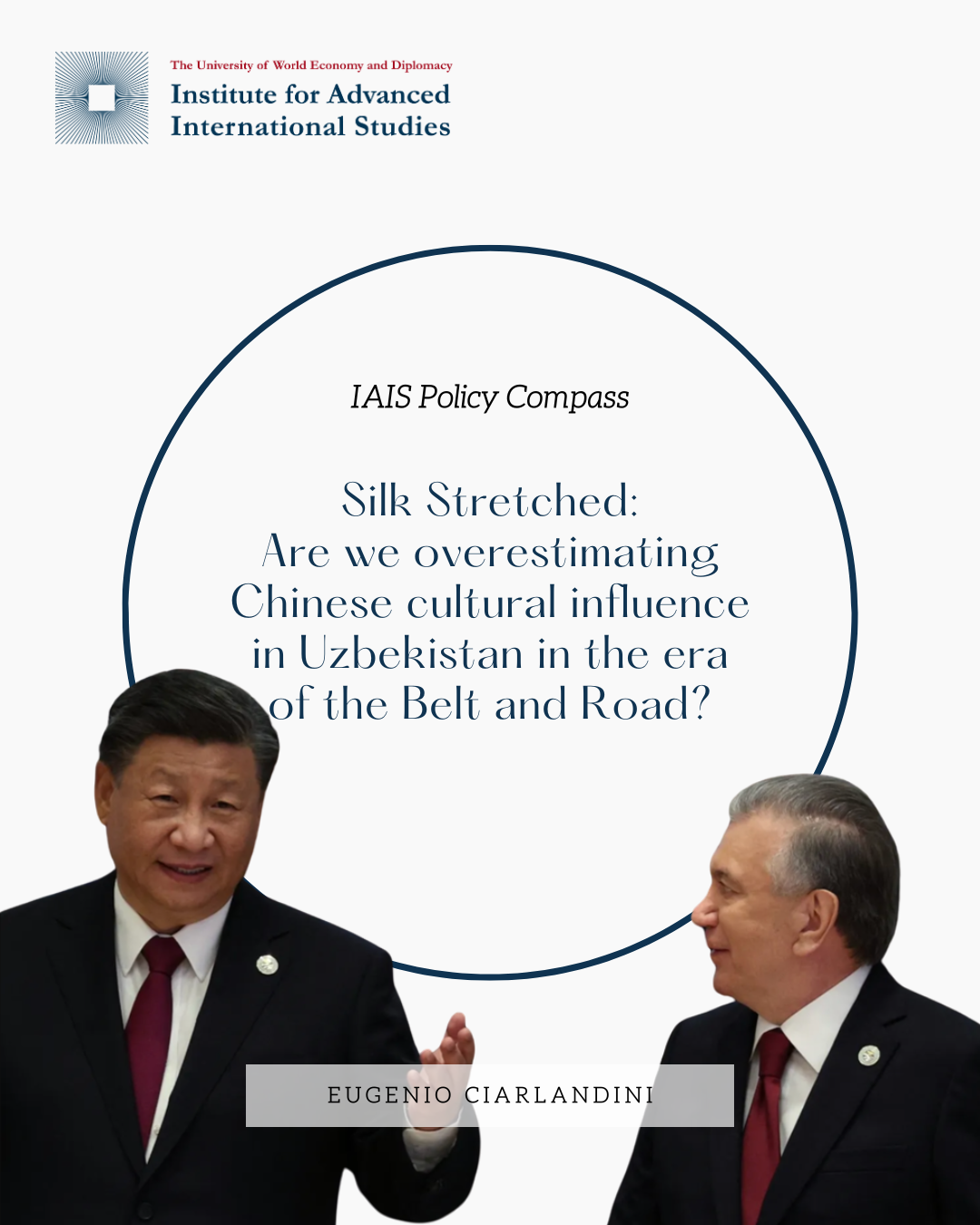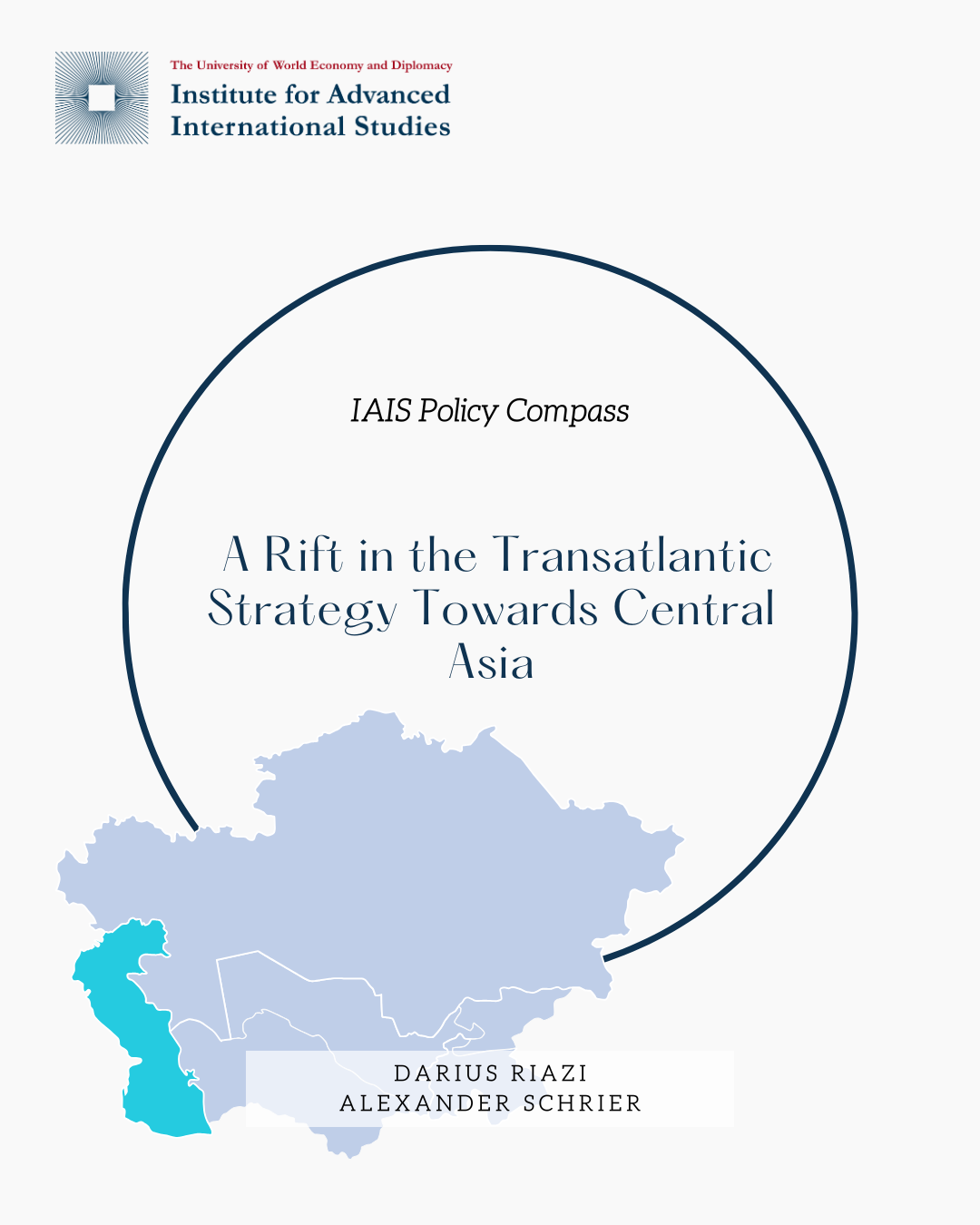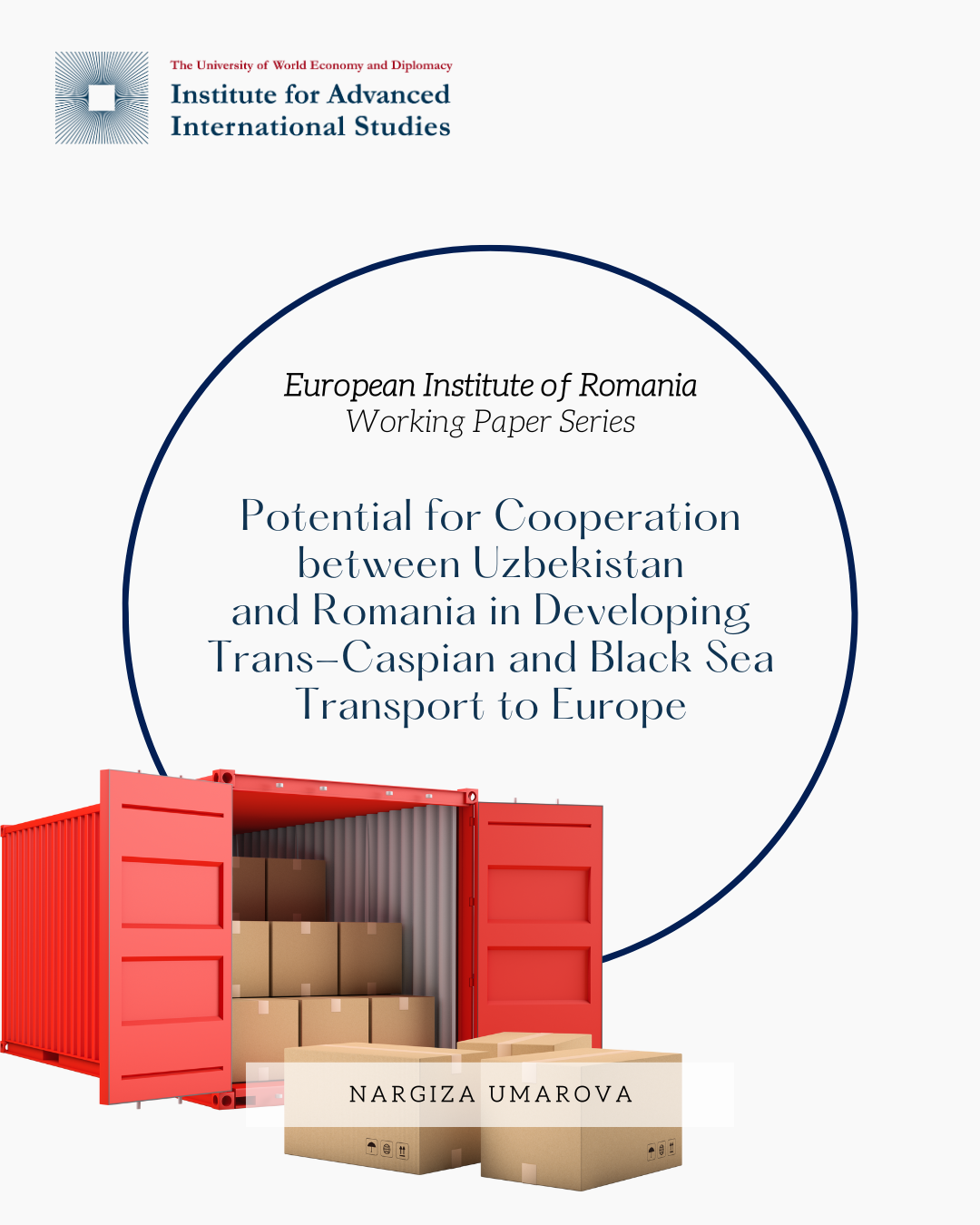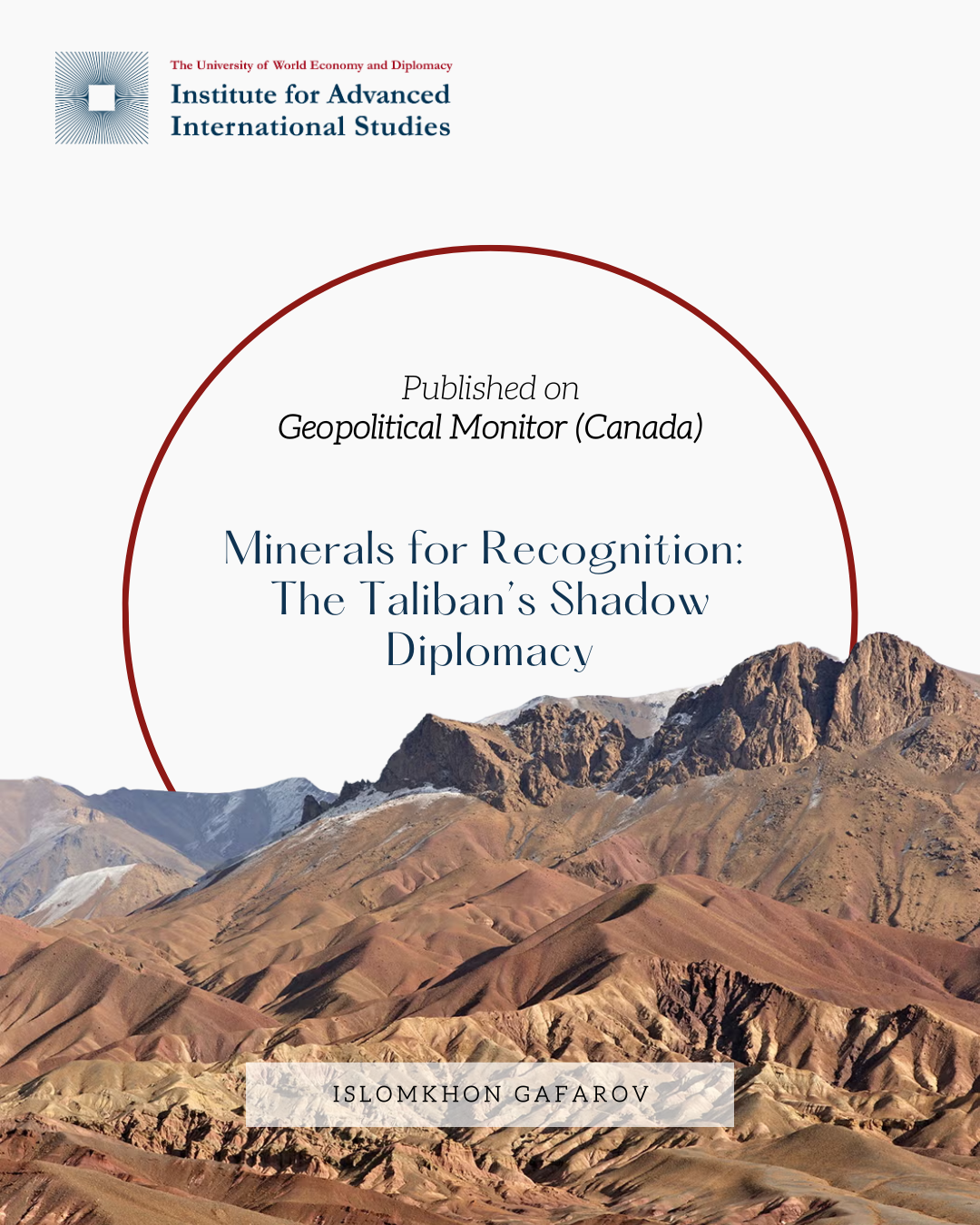Наргиза Умарова описывает стратегические мотивы, лежащие в основе усилий Узбекистана по созданию транспортной оси «Запад-Юг» в рамках более широких амбиций страны стать ключевым логистическим центром в Евразии. Она утверждает, что в настоящее время доля Узбекистана в грузовых перевозках в Европу остается непропорционально низкой и составляет всего 2,3% от общего объема перевозок в Центральной Азии, несмотря на выгодное географическое положение страны. Она отмечает, что эта маргинальная роль представляет собой как структурное ограничение, так и скрытую возможность. По мере усиления интереса Европы к транспортному сообщению с Центральной Азией, в частности, за счет диверсификации транспортных маршрутов в обход российской инфраструктуры, Узбекистан позиционирует себя как страну, способную удовлетворить растущий спрос на новые геополитически нейтральные коридоры.
Умарова рассматривает это развитие в контексте меняющихся геополитических и экономических отношений между Центральной Азией и Европейским союзом. ЕС, который в настоящее время является третьим по величине торговым партнером Узбекистана после Китая и России, уже наблюдает рост двустороннего товарооборота, особенно в рамках системы торговых преференций GSP+. Экспорт Узбекистана в Европу, в котором преобладают химикаты и уран, отражает как масштаб, так и узкую базу текущих обменов. Таким образом, по ее мнению, расширение транспортного сообщения касается не только логистики, но и фундаментальной реструктуризации экономической интеграции Узбекистана с мировыми рынками, что со временем позволит диверсифицировать экспорт и повысить его стоимость.
С этой целью Умарова выделяет две трансформационные инфраструктурные инициативы. Первая — это железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая сократит торговые маршруты между Восточной Азией и Европой почти на 900 километров. Эта железная дорога призвана превратить Южный коридор, ранее маргинализированный из-за санкций против Ирана и логистических трудностей, в конкурентоспособную мономодальную артерию для трансконтинентальной торговли. Хотя она признает, что горный рельеф Кыргызстана может ограничить его масштабируемость по сравнению с более ровными маршрутами Казахстана, Умарова утверждает, что южный путь открывает новые геоэкономические возможности, в частности, благодаря потенциальным связям с Ближним Востоком и Африкой через Иран и Турцию.
Вторая инициатива, которую она рассматривает, — это железная дорога Термез — Мазар-и-Шариф — Кабул — Пешавар, цель которой — создать прямое сухопутное сообщение из Центральной Азии в Южную Азию и к Индийскому океану. По оценке Умаровой, этот так называемый Кабульский коридор может изменить региональные транзитные потоки, предложив альтернативу традиционным северным маршрутам через Россию. В случае успешного соединения с Северным и Средним коридорами афганский маршрут мог бы соединить Северную Европу, Россию, Беларусь, Кавказ и части Южной Европы с Индией и Персидским заливом, при этом Узбекистан стал бы ключевым транспортным узлом. Это не только укрепило бы логистический профиль страны, но и повысило бы ее геостратегическую значимость в условиях фрагментации мирового порядка.
Умарова приходит к выводу, что, хотя Узбекистан не может полностью конкурировать с доминирующим положением Казахстана в сфере региональных грузоперевозок из-за отсутствия выхода к Каспийскому морю и более ограниченной железнодорожной инфраструктуры, эти новые коридоры предлагают пути для смягчения существующих диспропорций. Ключ, по ее мнению, заключается не в том, чтобы копировать модель Казахстана, а в том, чтобы разработать дополнительные маршруты, обслуживающие новые географические регионы и участников. Если Узбекистан сумеет утвердиться в качестве незаменимого звена между Европой, Южной Азией и Ближним Востоком, это может коренным образом изменить региональную транспортную матрицу и обеспечить ему более весомую роль в международной экономической системе.
Читайте на The Diplomat
* Институт перспективных международных исследований (ИПМИ) не принимает институциональной позиции по каким-либо вопросам; представленные здесь мнения принадлежат автору, или авторам, и не обязательно отражают точку зрения ИПМИ.